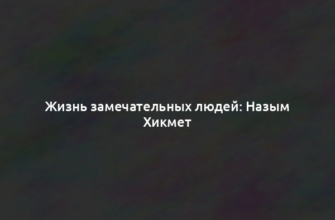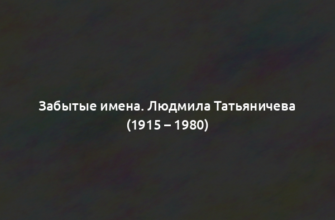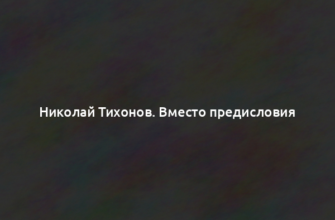Многие улицы Харькова до сих пор напоминают строки стихов Маяковского. Эти строки звучали в наших головах так часто, что казалось, будто они выложены прямо на тротуарах. Мы с друзьями, юные поклонники поэзии, не уставали цитировать его произведения, гуляя вечерами по улицам большого города.
Мы были группой молодых людей, пришедших в литературу с заводов и институтов в начале тридцатых годов. Это было время, когда активно реализовывалась программа «призыва ударников в литературу». Харьковский Дом литераторов имени Василя Блакитного жил насыщенной жизнью. Тяжелые металлические кольца, укрепленные на массивных дверях, не умолкали, сообщая о постоянном потоке посетителей. В просторных залах собирались полные аудитории.
Для нас, молодых поэтов того времени, было важно создать поэзию, которая соответствовала бы духу эпохи. Мы отвергали камерные формы творчества, избегали изолированности от современной жизни. Главным примером для подражания был Маяковский. Его жизнь и творчество служили для нас ориентиром: мы стремились, чтобы каждое слово в наших произведениях имело силу действия, становилось своего рода оружием, сравнимым со штыком.
Именно в Доме Блакитного тогда начинали свой путь многие украинские и русские писатели, впоследствии ставшие известными: Илья Калянник, Виктор Собко, Борис Котляров, Семен Борзенко, Михаил Нагнибеда, Семен Крыжановский, Геннадий Литвак, Захар Кац, Василий Кондратенко, Яков Баш, Александр Хазин.
Мне тогда было 17 лет. Родился я 18 марта 1914 года. К тому времени я окончил семилетнюю школу и поступил на рабфак Харьковского электротехнического института. Этот выбор был, вероятно, связан с влиянием моего отца, который трудился инженером на кораблестроительном заводе в Николаеве, моем родном городе. Однако вскоре моя жизнь изменилась. Переехав с матерью в Харьков, я попал в совершенно другую среду. Здесь мы жили с отчимом, Леонидом Гавриловичем Платоновым, человеком удивительного ума и увлеченности. Он был не только естествоиспытателем и путешественником, но и одним из первых советских исследователей бассейна озера Севан в Армении. Его кабинет всегда был завален микроскопами, образцами минералов и другими научными приборами. Именно отчим и моя мать приучили меня любить природу.
Человека формируют люди, с которыми он сталкивается в жизни. Они влияют на его сознание и духовный мир. Поэтому, говоря о своей биографии, я неизбежно упоминаю тех, кому многим обязан.
Школа, в которой я учился, называлась «Металлист». Это имя отражало дух времени: учебное заведение находилось под шефством союза рабочих-металлистов. В школе царила атмосфера революционного подъема, присущая 1930-м годам. Особенно я вспоминаю с благодарностью свою учительницу Марию Ивановну Бысову, чьи уроки оставили глубокий след в моей душе.
На формирование моих взглядов повлияли и университетские преподаватели. С особым теплом я вспоминаю лекции А. И. Белецкого и С. И. Маслова, которые я слушал, уже будучи студентом филологического факультета Киевского университета, где учился с 1935 по 1938 год. До этого был недолгий период учебы в электротехническом институте и три года на биологическом факультете Харьковского университета.
Моя жизнь богата встречами с удивительными людьми, доброта и щедрость которых оставили неизгладимый след. Их имена я упоминаю в своих стихах. В этом плане особенно важным для меня стал Юрий Платонов, брат моего отчима. Он был детским писателем и географом. Именно он открыл для меня двери в мир украинской литературы.
Первым поэтом, которому я показал свои стихи, был Майк Иогансен. Его интерес и участие в моей судьбе помогли мне утвердиться в выборе творческого пути. Я рос как поэт среди украинских писателей, ощущая их братскую поддержку. Они помогали мне осваивать культуру стиха и находить свое место в искусстве.
Мое первое стихотворение — «Бригада литейщиков» — было опубликовано в 1931 году в майском номере журнала «Молодая гвардия». В 1936 году Гослитиздат Украины выпустил мой первый сборник стихов под названием «Весна вдвоем».
Во время Великой Отечественной войны я был на фронте, работал корреспондентом армейской газеты. На этой должности мне приходилось выполнять множество задач: писать стихи, передовицы, фельетоны, очерки и готовить оперативные сообщения с передовой. Война стала проверкой на прочность для всех, но для меня это был также период, когда пригодились уроки Маяковского. Его методы, традиции и подходы к поэтическому слову стали для меня незаменимыми.
В декабре 1943 года, находясь на Южном фронте, я вступил в ряды КПСС.
После войны я продолжил писать. В 1946 году вышел мой поэтический сборник «Чайка», за ним последовали «Подвиг мечтателей» (1949), «Песня с Днепра» (1951), «Путями правды» (1952), «Простор» (1956), «Лирика и героика» (1957), «Щедрость» (1960), «Мои известия» (1962), «Звездные сонеты» (1962) и другие.
Несколько лет после войны я читал лекции по истории русской литературы, писал работы о творчестве Маяковского, переводил на русский язык произведения украинских поэтов и создавал книги для детей. Однако меня всегда притягивала лирика. В своих стихах я стремился осмыслить не только общественную жизнь, но и природу, которую человек неизбежно изучает и преображает, сталкиваясь со своими страстями, сомнениями, успехами и трудностями.